СТАТЬИ
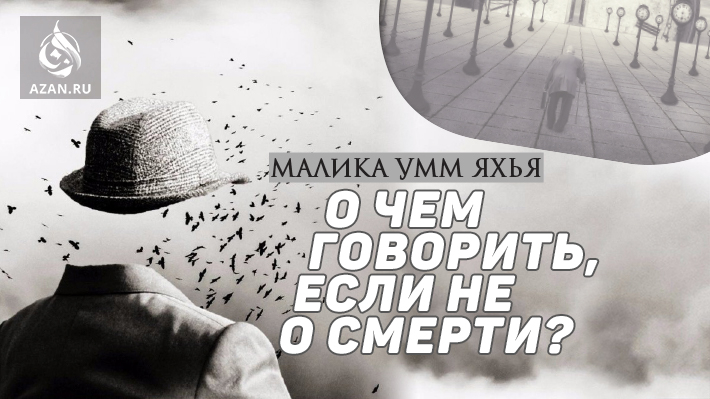
О чем говорить, если не о смерти? Немного некросоциологии
Раз уж на теме смерти лежит жесткое вековое табу, неудивительно, что мусульман не любят априори. Входя в комнату, соблюдающий мусульманин...
О чем говорить, если не о смерти? Немного некросоциологии
Некросоциология (или социология смерти) – это оформляющийся раздел социологии, который изучает то, как смерть влияет на жизнь общества, и людские представления о смерти. Исследователи отмечают двойственный характер феномена смерти: с одной стороны, тема – ключевая для человека; с другой, в современном обществе она нередко табуирована.
Барни Глейзер и Ансельм Стросс в книге «Awareness of Dying»[1] писали в середине XX-го века:
«Americans are characteristically unwilling to talk openly about the process of dying itself. And they are prone to avoid telling a dying person that he is dying. This is, in part, a moral attitude: life is preferable to whatever may follow it, and one should not look forward to death, unless he is in great pain»[2].
Проще говоря, тема сознательно замалчивалась на практике. Конечно, о смерти пишут в прозе и поэзии, истории о ней транслируют с экранов, смерть завораживает зрителя. Но вербализовывать ее в применении к себе и близким нельзя. Даже когда умирающий родственник хочет обсудить смерть, близкие мягко отказываются: «Тебе еще жить и жить, рано об этом думать». Рассуждение о реальном умирании травматично для представителя современной западной цивилизации, это невротический страх и строжайшее табу: «Я не хочу об этом говорить».
Но за полвека картина изменилась. Уже в 90-х ученые отмечали, что смерть снова обсуждается: «Британский социолог Тони Уолтер приблизительно в эти же годы заговорил о «возрождении смерти» (как предмета интереса и растабуированной темы для разговора). Он предложил различать этапы отношения к смерти и говорить о традиционной смерти, смерти модерна и смерти постмодерна. Если о традиционной смерти писал Ф. Арьес, то Т. Уолтер представляет анализ того, что случилось с культурой (культурами) смерти в последующие десятилетия. Во времена модерна люди дистанцировались от смерти. Об этом типе смерти пишет Н. Элиас, книга которого появилась в 1982 г. Смерть постмодерна отличается тем, что она стала предметом рефлексии, и субъект — в силу роста индивидуализма и изменения границ личной чувствительности — стал проявлять активность в отношении смерти»[3].
Однако в постсоветском условно секулярном пространстве тема смерти по-прежнему запретна и неуместна в диалоге: «Рефлексия смерти была упразднена в России довольно быстро и эффективно — даже в академических некрологах в конце 1920-х гг. она сменяется стереотипными формулами. Над смертью больше не думают, смерть больше не обсуждают. Уважение к личностному пространству человека — как умершего, так и оставшегося — больше не стоит на повестке дня»[4].
О том, насколько мы забиты полем смерти, можно читать долго. Впечатляет, например, то, что иногда сами интервьюеры не могут спокойно вести разговор о смерти, хотя формально сами инициируют анкетные вопросы:
«Жен., 67 лет, село в Красноармейском р-не, Приморский край
И.: А можно ли вам задать вопрос (пауза) о смерти?Р.: (пауза 4 сек.) Ну, задавайте.И.: Спасибо вам. Думаете ли вы о своей смерти? Тоже варианты ответов, просто выберите то, что вам подходит — часто, редко, не думаю.Р.: (пауза) Нет, я вот думаю. Почему-то последнее время думаю. Не знаю почему, в голову мне все время это приходит.И.: Ну, это получается...Р.: А я сама не могу понять.И.: Это бывает такое состояние. Это временное, вы даже не переживайте»[5].
«Это временное, вы даже не переживайте», – говорит интервьюер, потому что тема глубоко табуирована: долго думать о смерти нельзя, неловко, неправильно. Сюда подмешиваются суеверия (аузубиллях): люди боятся «накликать смерть». И, конечно, они просто боятся думать, ведь мысль о смерти несекулярна.
И, раз на теме смерти лежит жесткое вековое табу, неудивительно, что мусульман не любят априори. Входя в комнату, соблюдающий мусульманин напоминает о смерти: даже простые платок, тюбетейка, четки автоматически сообщают о религии, а религия – это всегда про смерть. Мы нарушаем табу, даже не успев ничего произнести. Хиджаб, книги на арабском, коврик для намаза – любой религиозный атрибут говорит о том, что я умру, ты умрешь, мы умрем, – и молчать про это не нужно.
Безусловно, тема смерти есть не только в Исламе. Вокруг отношения к окончанию земной жизни построены все религии, даже воинствующий атеизм. Но другие религии значительно менее щепетильны в соблюдении внешней атрибутики и куда более мягко входят в светскую культуру. Так, среднестатический даже воцерковленный русский христианин внешне почти никогда заметно не отличается от окружающих. И христиане учитывают табу российского общества – они не заговорят о смерти и религии, если их не спросят.
Мусульмане говорят. И я вижу в этом только достоинство. Но не надо удивляться противодействию: если ты нарушаешь негласный запрет, предлагая собеседнику подумать о смерти (или даже – немыслимо! – поговорить о ней), будь готов к тому, что ты неудобен. Смерть – это зона дискомфорта, и ты – проводник по этой зоне. Никто не хочет тебя знать[6].
Вне сомнений, у исламофобии в России долгая история и крепкие корни. И табуированность темы смерти – далеко не главная ее причина. Более того, не думаю, что исламофобию возможно победить в обществе, где есть кто-то, кроме мусульман. Она естественна, и мы всегда будем объектом ненависти: если не по актуальным сейчас причинам, так по другим. Однако как ловко укладываются кирпичики исламофобии в ту зияющую пустоту, которая появляется в душе, когда при человеке нарушают важнейшее табу его привычной среды. Если ты ломаешь чужой культурный код, хакеры придут и к тебе. Помни о смерти. Говори о ней. И знай, что тебя не будут за это любить.
[1] Awareness of Dying, Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss. Chicago: Alpine Pub. Co., 1965.
[2] «Американцы отличаются характерным нежеланием открыто говорить о процессе умирания, и они склонны к тому, чтобы не говорить умирающему, что он умирает. Это отчасти следствие моральной установки: жизнь предпочтительнее того, что за ней следует, и не надо стремиться к смерти, если только ты не испытываешь сильнейшие муки». Перевод Умм Яхья.
[3] Еремеева С. «То, о чем мы молчим… Почему death studies не популярны в современной России?»/Археология русской смерти. 2015, №1.
[4] Там же.
[5] Рогозин Д. http://www.nlobooks.ru/node/5623.
[6] Разумеется, иногда появляются и те, кто хочет. Нет пределов хидая от Аллаха. Однако обычно о религии (в частности, об Исламе) в светской культуре готовы говорить те, кто уже столкнулся со смертью (болезнью, потерей близкого, неожиданным спасением от катастрофы и так далее). Религия для них – не выход из зоны комфорта, а возможность освоить зону дискомфорта. Прим. Умм Яхья.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Исцеление с помощью Корана: О боли, депрессии и посттравматическом росте
Депрессию правильнее ассоциировать с безнадежностью. На самом деле горе — это не такая уж большая беда, если мы можем быстро от него опра...
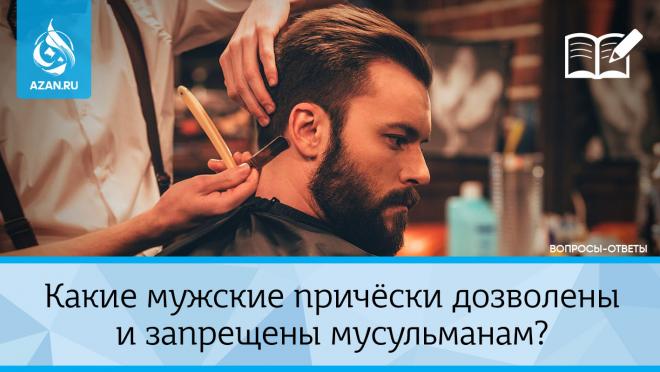
Какие мужские причёски дозволены и запрещены мусульманам?
Мужчинам-мусульманам разрешается стричь волосы. Это основано на том факте, что существует множество преданий о том, что Посланник Аллаха ...
ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
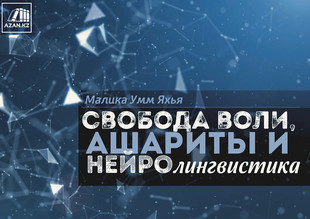
Свобода воли, ашариты и нейролингвистика
Можно сказать, что эта статья мысленно мной составлялась долгие годы, потому что, действительно, последние пару-тройку лет я размышляю о ...
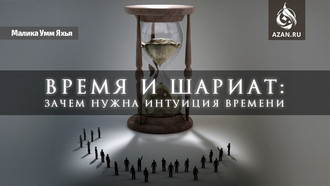
Время и Шариат: зачем нужна интуиция времени
Время – это сотворенная категория, и его отсчет начался с первым творением. До первого творения времени не существовало, так как время оп...
 Алматы
Алматы 

 Как принять Ислам?
Как принять Ислам?

 Войти
Войти



 Казахстан
Казахстан
 Кыргызстан
Кыргызстан
 Татарстан
Татарстан






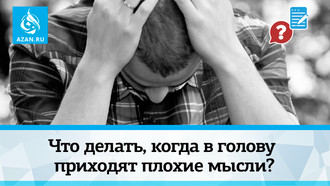
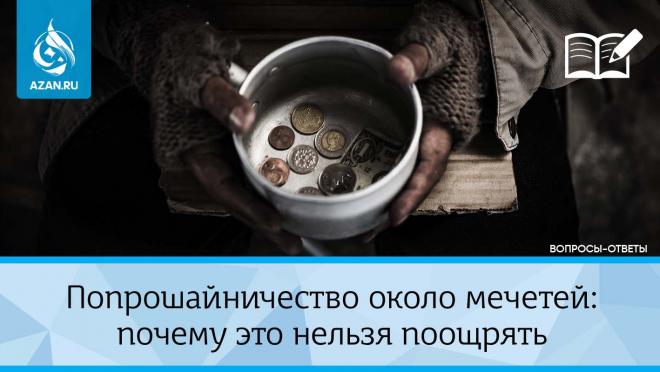
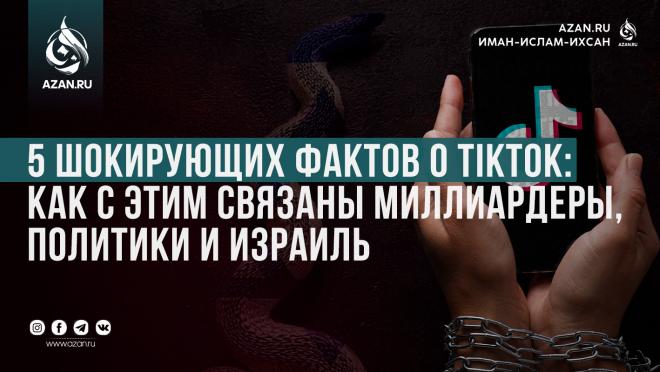



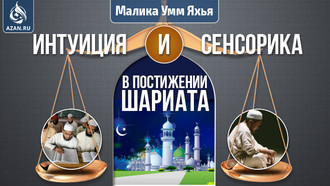


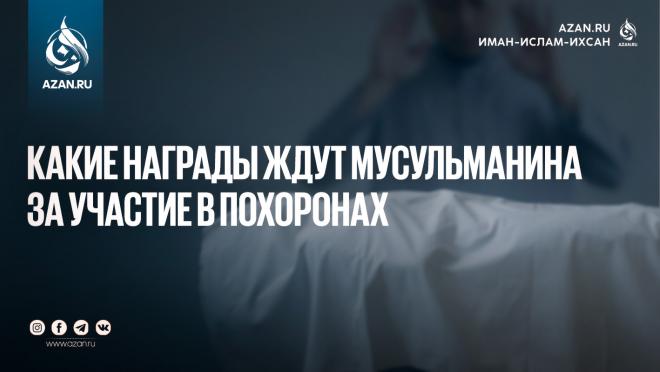

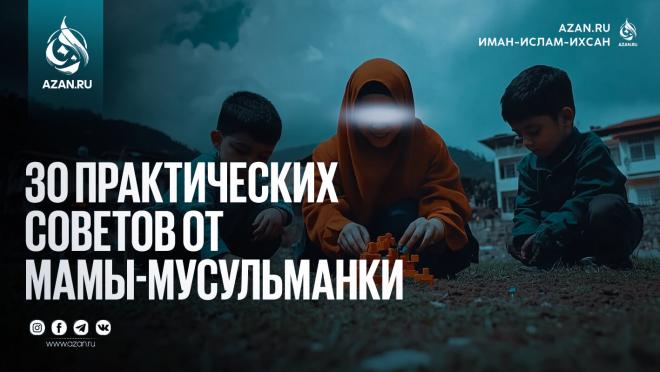
























Комментарии: 5
Правила форума